Впоследствии, встречая неистово влюбленных, охваченных страстью взрослых женщин, я испытывала неловкость и жалость. Тем самым жалея немного себя, ту, того времени, того уровня заражения. Не то чтобы я была тогда очень взрослой, но для таких искренних страданий — даже очень старой. Это ж лучше в пятнадцать, максимум в семнадцать лет так сходить с ума и скрежетать зубами, жаждущими заполучить в вечное пользование объект страсти. Судя по всему, это должно рано или поздно настигнуть всех женщин. И в нежной юности это проходит безболезненно и без особых осложнений. Как ветрянка. А вот заболеть после двадцати, еще хуже после тридцати — фатальный исход неизбежен.
Мне очень жаль взрослых влюбленных женщин. Грустнее этого зрелища ничего не может быть. Терять взрослую голову куда больнее, чем в юности. Багаж-то вон какой, тяжела головка, наполненная накопившимися мыслями, опытом, виденным-перевиденным, принципами и вариантами вольного с ними обращения. Можно ее, оброненную, потерянную, ударенную, деформированную, так на место и не установить.
Хотя есть зрелище и погрустнее: женщина, которая никогда, ни в юности, ни в зрелости так эту голову ни разу и не потеряла. Не страдала от охваченного страстью, тотально взбесившегося тела и разума, помешавшегося на объекте своей не по возрасту бескомпромиссной любви.
И вот я снова шла к тебе, послушная жертва, раненное тупой стрелой амура животное, потому что ничего адекватно-человеческого я в себе в то время отыскать не могла.
Мне было совсем не важно, что там были еще люди, я была готова целовать этих женщин, поглядывая на тебя, ловя в свой сачок надежды задержавшийся на мне взгляд и рассыпанное по твоим губам наслаждение.
Я делаю это, потому что ты хочешь, чтобы я делала это. Смотри, я могу еще так, и так, и так, и мне нравится эта новая, пахнущая мускусом брюнетка, в ней есть что-то мужское, и я рассчитываю хоть на каплю твоей ревности. Ты знаешь, что это такое? Ты знаешь, о чем я? Не думаю. Вернее, не думала я тогда.
Через пару дней я освоилась и начала сама предлагать новые развлечения. Некоторым ты даже удивлялся. Я регулярно мучила странными вопросами подруг и гугл. Лишь бы рядом, лишь бы на твоих глазах...
— Не зря мы шутили в институте, что на филологическом факультете учатся одни извращенки...
Ты закончил факультет международных отношений. Но работал не по специальности. Неудивительно. Отношения и ты — несовместимо.
У тебя дома часто были люди. Друзья, знакомые друзей, женщины друзей. Я им улыбалась, но часто ненавидела. Они знали больше о тебе, чем я. Они знали тебя дольше. Я ревновала тебя ко всем. Все они тоже странно реагировали на мое присутствие, я задирала гордый, не чета им интеллигентный профиль, я всегда молчала, а потому понять, кто я и что здесь делаю, кроме как совокупляюсь по часам, было сложно. По твоим внутренним биологическим часам.
Каждый вечер мечтала, что приду, а ты будешь один. В тишине дома откроешь дверь, улыбнешься, поможешь снять плащ, а затем и платье. Поцелуешь меня, несвойственно нежно, без ссадин и укусов касаясь моих губ, и проведешь за руку в свою спальню. Уложишь на лопатки, придавишь собой меня, чтобы не убежала. Хотя куда бежать и зачем. И все будет проще нашего непростого, твои глаза напротив моих, и можно будет в них нырять глубже, еще глубже, до самого дна твоей недопустимо свободной, как по мне, души.
Всего за три недели, рисуя белым порошком, я дошла до буквы Z и бросила. Я хотела посмотреть, как мой мозг, не замутненный ничем, будет реагировать на тебя. И будет ли вообще.
И все стало более, чем слишком. Алкоголь не спасал от бесперебойного удивления. Все, решительно все для меня в твоей квартире и жизни было слишком. Я знала о тебе так мало, ты отвечал уклончиво, размазывая ничего не значащие детали, заштриховывая смыслы. Я хоть и говорила что-то о себе, но о главном не смела даже шепнуть. О чем умалчивает протагонист в своем потоке сознания.
С тобой в постели каждый раз я умирала навсегда. Мне нравится называть это "умирала". И мне нравится подчеркивать «навсегда». Ты жонглировал моим телом так ловко, что потолок менялся местами с полом, день с ночью, зима с летом, «да» с «нет». Я понимала, что вот-вот умру, и все остальное было неважно. Без сожалений, без завещания, навсегда. Кардиограмма в линию горизонта. Застывшие зрачки. Горячее тело в последних конвульсиях. Стоп. Свет выключили. И нестрашно, и нежалко. Кто вспомнит этот странный, истощенный душевным мазохизмом организм.
А потом я снова открывала глаза и видела свое большое оранжевое солнце, гордо восходящее надо мной. Эти черные блестящие волосы, сладкие глаза, говорящие даже в молчании губы, и руки, которым очень хотелось доверять. И зачем только я жила без тебя? И зачем только умирала до тебя так бездарно?
А на утро снова алфавит и неправильные глаголы. В школе. К чему мне нужен был Голдинг? Всего лишь для того, чтобы учить детей английским названиям животных и насекомых?
Ты все еще приглашал иногда своих бывших подружек. С их приходом оживлялся, что-то рассказывал смешное, подшучивал, преимущественно надо мной. С ними ты казался более счастливым. Открытым, что ли.
Одна меня уличила. Умненькая.
— Втюрилась?
— В кого, детка? В тебя? Все может быть.
Легкомыслие не было моей сильной чертой, но имитация легкомыслия — это у меня хорошо получалось при необходимости. В имитациях я разбиралась неплохо. И во всем хотела видеть хорошую сторону, как учили все те же классики. У меня все еще были на тебя большие надежды, хотя я должна была помнить, что утраченные иллюзии появились в этом мире намного раньше.
Она подмигнула и нырнула мне под юбку. Ты, проходя мимо, улыбнулся и прошел на кухню. Так мне это уже было не нужно. Если не для твоих глаз, никакие губы не смогут нащупать под юбкой мою смерть.
Иногда в туманном дне, полном смертей, алкоголя, сигаретного дыма, я уже тоже начала курить, мне казалось, это делает меня ближе к тебе, брать сигарету из твоей пачки, держать в руках твою зажигалку, а еще лучше докуривать за тобой, у меня появлялся вопрос, зачем. Зачем я здесь, зачем все эти люди? Почему мы никогда не встречаемся вдвоем, не спим вдвоем, не едим, не разговариваем, не смеемся. Никогда. Вдвоем. Я просто была частью массовки. Пища. Сексуальный планктон. Гарнир или, в лучшем случае, десерт.
Меня раздражала твоя свобода и наглость. Ты мог голым открыть входную дверь в любую комнату, полную любых людей. Мог ходить в туалет, не закрывая дверь, мог ворваться, когда там сидела я, и я жутко смущалась. Ты смеялся над моей попыткой уснуть рядом с тобой хотя бы в твоей майке и в собственных трусиках, ведь у меня никогда не было с собой ночной рубашки. Пару раз я намеревалась взять с собой на работу в школу пижаму. Но не брала, боясь нарушить уже заведенный порядок спать с тобой только голой, боясь вызвать очередной приступ гнева или смеха.
Однажды вдруг все друзья и подруги исчезли из твоего дома.
Для меня это длилось три минуты, не больше, хотя, судя по часам, прошло несколько часов. Ты позвал меня на диван, прилег, заставил прилечь рядом к тебе спиной, ты прижался всем телом, обнял меня своими огромными ручищами и включил телевизор. Мы смотрели какой-то фильм, возможно, лучший в моей жизни, название которого я так и не запомнила, не меняя позу в течение двух часов. Потом ты перевернулся, повернул меня, так что моя грудь уперлась тебе в спину. Уснул. Я боялась пошелохнуться, чтобы не спугнуть твои лопатки, теплые, острые, уставшие, упершиеся мне в грудь так непривычно, неприлично ласково и нежно, что захватило дух. Как они подходили друг другу, моя грудь и твои лопатки! — еле слышно думала я.
У меня были миллионы вопросов, и я не задала ни одного, решив ни за что на свете первой не потревожить твой сон. Ты проснулся, снова уставился в экран. Так ждала этих мгновений наедине и ничего не спрашивала, только кивала и отвечала что-то дурное на твои комментарии к фильму. Ты щелкал и щелкал пультом, а я думала о том, что вот так отсчитывается отведенное мне счастье. Пульт как кукушка, которая предсказывает оставшиеся мгновения. Надо же, сколько у тебя каналов. Я уже даже и не мечтала о всего нескольких минутах с тобой наедине.
— У тебя есть мечта?
Я вздрогнула. Ты спросил не о сигаретах, не о презервативах, не просил сделать кофе или чай, не интересовался погодой или еще чем-то более привычным и ожидаемым.
— Да.
Конечно, я хотела сказать, что мечтаю вот так лежать и не двигаться, срастись с тобой, как небо с морем на рассвете. Стать твоим сиамским близнецом. И пусть на меня не хватает пространства и свободы ни на этом диване, ни в твоей жизни, пусть.
Но я вслух сказала, что мечтаю о путешествии в Париж.
— Фу, как примитивно.
— А ты был в Париже?
— Еще нет.
— Почему же примитивно?
— Примитивно тратить на это целую мечту, когда можно просто поехать туда.
Через неделю ты улетел в Париж.
Просто позвонил и сказал: лечу, не приходи сегодня.
И тут я снова умерла. Даже уже не касаясь меня своими руками, ты научился меня убивать. Только на этот раз это не было сладко. Было больно.
И что же это за любовь я себе такую выдумала? Не нашедший объекта достойнее квазиромантизм, развитый во время прилежного чтения заданного на лето списка литературы еще в институте. Да и после окончания классики продолжали терзать мое сознание желанием воплощения всех этих не существующих в реальной жизни героев и их несуществующей любви.
Я же ничего не знаю, кроме имени, роста, и только могу рукой показать, насколько ты выше меня, в сантиметрах не знаю, номер квартиры знаю, номер дома нет. Знаю, как потягиваешься, когда утром просыпаешься, как чихаешь, всегда четыре раза подряд. Знаю, что говоришь иногда по ночам: бессвязный бред о работе и делах, но одними и теми же неприличными словами. Знаю, как чувствую себя рядом с тобой. Какие эмоции ты во мне вызываешь. Знаю, что из-за тебя оккупировали мой организм насекомые: снаружи мураши, а внутри мотыльки. Как то бледнеет, то краснеет моя кожа, а ты этого даже не замечаешь, мой душевный дальтоник. О тебе я знаю мало. Но о себе рядом с тобой — все.
Реветь... Взрослая женщина, а снова реветь… Реветь... Реветь... Ходить в школу... Учить детей... Снова реветь... Прямо в школе, немного, негромко, немокро, просто насморок, просто аллергия. Аллергия на твое неприсутствие...
Что же ты? Навсегда, что ли, в этот Париж переселился? И с кем?
Я засыпала, пытаясь разложить по двум полочкам хорошее и плохое, что я знаю о тебе. Всего одна стопка из ровно уложенных минусов. И непреходящее чувство, предчувствие, что все не так, что ты другой, что может все еще быть по-другому, потому что я так хочу, даже если ты этого совсем не хочешь. На одной интуиции я хотела тебя ждать из Парижа. И неважно, кто был там с тобой. В конце концов, я тоже целовала при тебе других людей. И некоторые мне даже начинали искренне нравиться, потому что ты их уж точно не любил.
Умирала от Парижа, в котором даже не была.
Ты позвонил через месяц. Увидев на телефоне имя, я дышала несколько секунд глубоко, желая сделать голос минимально заинтересованным.
Но, подняв трубку, я начала говорить. Впервые за все это время знакомства я начала говорить о том, что это мерзко, о том, как это выглядит глупо, как я выгляжу грязно и чувствую себя не чище, наконец сказала, сколько мне на самом деле лет, как я устала и не хочу. Хочу, но не так. Все это не мое и не для меня...
Я щебетала, переходя на крик, не давая тебе ответить. Вот так мне хотелось тайфуном набросить на тебя всю мою накопившуюся злость, и будь что будет, хоть ты — снова в Париж или стереть мой номер, вот бы мне изъять из памяти навсегда каждую встречу и каждую смерть.
Нет, не надо. Пусть останется это обещание счастья во мне пеленой симпатичной грусти на глазах. Грусть всегда делала меня милой и настоящей, улыбаться я толком не умею, всегда это получается наигранно, каждый раз пытаюсь представить, как бы это сделала какая-нибудь Керри Маденда.
— Ты такая странная. Приходи. Все обсудим.
Конечно, я пришла. Ты, наконец, дал мне хоть какое-то определение. Мне кажется, в тот день ты впервые поверил, что я — живая женщина. И даже немножко человек. Я не могла это пропустить. А вдруг это знак, и теперь будет все хорошо? Как у Флоренс Домби, например? Хотя там главный герой был отец. Да какая, к романтическому черту, разница?
Ты открыл входную дверь и рассматривал меня пристально. Легкая ухмылка смущала меня, и решительности снова как не бывало. Я снова замолчала.
— Ну, рассказывай!
Под твоим взглядом все рассказы оказались лишними. Да, я готовилась по дороге, перебирая самые точные идиоматические выражения, которые могли уместиться в моей маленькой голове. Я должна была сказать, что скучно и примитивно так проводить время, подобно паре бездушных животных. Пара ли? Ладно, не в этом смысл. Что еще есть другой мир, другие отношения, например, мир литературы, без которого я не могу жить. Я хочу говорить с тобой, говорить, говорить, говорить. Обо всем.
Ты сел на диван, подкурил сигарету, приготовился слушать.
Я присела, нащупав негнущимися пальцами противоположный край дивана.
— Ты читал "Ночь нежна?" — странная женщина приглашение к беседе приняла, но начала странно.
— Читал. Фуфло. Раздевайся.
И на кой мне сдался в этот момент именно Фицджеральд?
Ведь на самом деле просто хотелось прижаться, коснуться, поцеловать тебя так сильно, чтобы ты закрыл эти буравящие мой мозг глаза, не дающие мне возможности отдышаться.
После густой, вязкой, вонючей, как болотная топь, паузы, которая поглощала меня целиком вместе со всеми трусливыми надеждами, ты начал говорить. Рассказал, что был в командировке. И тебе запала моя идея побывать в Париже, у тебя там была пересадка, и ты остался там на три дня. Потом было еще пару командировок, времени отдохнуть не оставалось.
Онемевшая, я слушала тебя, пыталась расслышать то, о чем не говорили твои губы.
— Опять молчишь, ну тогда раздевайся, б...
Вот это точно было обидно. Я себя уверяла, что это всего лишь вводное ругательное слово, ко мне не имеющее никакого отношения. Но так было больно. Я — учительница младших классов средней школы, с нового учебного года даже девятых — получаю приглашения приступить к священному акту любви таким способом:
— Раздевайся, б...
Конечно, я раздевалась.
Продолжение следует…
Отрывок из сборника

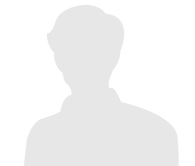
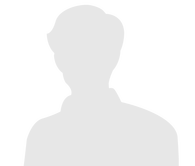






Коментарі